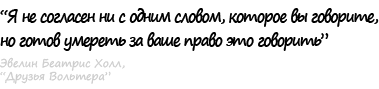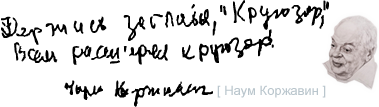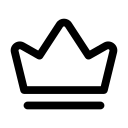КАК ПРИ ФАШИЗМЕ
Вредно всем
Опубликовано 19 Июня 2012 в 03:21 EDT
непосредственной причиной обрушения российских госструктур явилась именно воинская повинность (даже в большей степени, чем сама по себе 1-ая мировая война). Разумеется, насильственно загнанный в армейское рабство народ рано или поздно понимает, что самым явным, самым очевидным неприятелем являются для него вовсе не те, на кого указывает начальство, а сами эти начальники (т.е. рабовладельцы).
 В последние месяцы в интернете и в печатных СМИ зачастили собщения о всё новых и новых случаях гибели в армии российских солдат-срочников в результате зверской дедовщины, доведения до самоубийств, а также бесчисленных трагедий на всяких "учениях" и во время взрывов боеприпасов... И в то же время на российских телеэкранах - регулярные хвалебные репортажи о разных провинциальных военкоматах, успешно, мол, борющихся с "уклонистами", и выполняющих план по отправке в воинские части "призывного ресурса". Почему-то при подобных новостях невольно приходит в голову слово "фашизм"...
В последние месяцы в интернете и в печатных СМИ зачастили собщения о всё новых и новых случаях гибели в армии российских солдат-срочников в результате зверской дедовщины, доведения до самоубийств, а также бесчисленных трагедий на всяких "учениях" и во время взрывов боеприпасов... И в то же время на российских телеэкранах - регулярные хвалебные репортажи о разных провинциальных военкоматах, успешно, мол, борющихся с "уклонистами", и выполняющих план по отправке в воинские части "призывного ресурса". Почему-то при подобных новостях невольно приходит в голову слово "фашизм"...
Как известно, оно происходит от итальянского слова "фашио", означающего "пучок" или "единство". То есть, суть фашизма -- в полном подавлении любых, так сказать, индивидуальных прав и свобод человека во имя какого-то, мол, "высшего общественного блага" (в гитлеровской трактовке фашизма -- во имя, мол, "интересов германской нации"; в большевистском варианте -- во имя некоего "мирового пролетариата", и т.д.).
На практике все эти "высшие интересы" и "общественные блага" всегда оказывались, естественно, вовсе не высшими и вовсе не общественными, мягко говоря... Увы, в абсолютном большинстве государств (если не во всех) те или иные элементы фашизма присутствуют и сегодня. Правда, один из самых явных таких элементов в последние годы был, наконец, отменён почти во всех странах Запада (даже в Германии -- в прошлом году), однако в России его, похоже, отменять вообще не собираются.
Я имею в виду воинскую повинность. Она, на мой взгляд, по сути представляет собой 100-процентное воплощение, так сказать, классического фашизма, т.к. при ней все права человека ("виновного" лишь в достижении 18-летия) могут как бы вполне законно сводиться вообще к абсолютному нулю -- т.е. к некоей "почётной обязанности" беспрекословно выполнять любые приказы начальства. Разумеется -- как и положено при любом фашизме -- во имя, мол, "высших общественных интересов" (которые этим начальством, естественно, и определяются).
По-моему, в этом рабовладельческо-фашистском, снабжённом кучей всяких "патриотических" фраз, принуждении народа к беспрекословному подчинению "мудрому" начальству заключается высший, так сказать, идеал нынешнего российского режима. И именно поэтому (а также ради бесплатного строительства генеральских дач, ради дальнейшего разворовывания бюджетных денег, которые могли бы пойти на отмену рекрутчины, и т.п.) этот путинский режим с маниакальным упорством пытается сохранить -- в качестве массовой школы рабства -- эту позорнейшую и грозящую России очередной кровавой катастрофой систему принудительной армейской службы.
Чтобы слова насчёт вышеупомянутой катастрофы были понятнее, можно напомнить, что в октябре 1917 года, как, впрочем, и в феврале, главной непосредственной причиной обрушения российских госструктур явилась именно воинская повинность (даже в большей степени, чем сама по себе 1-ая мировая война). Разумеется, насильственно загнанный в армейское рабство народ рано или поздно понимает, что самым явным, самым очевидным неприятелем являются для него вовсе не те, на кого указывает начальство, а сами эти начальники (т.е. рабовладельцы).
Правда, последствия подобных событий могут быть непредсказуемыми и весьма печальными, мягко говоря, - как и в октябре 1917г. Однако, независимо от возможных последствий, загнанные в рабство люди -- особенно, если у них есть оружие, -- совершенно естественно, склонны при любом удобном случае развернуть это оружие против тех, кто ни за что загнал их в это рабство...
И ещё приведу один очевиднейший факт. Как известно, практически все государства, ведущие войны, всегда и везде объявляют, что они, мол, являются обороняющейся стороной, т.е. вынуждены защищаться от некой агрессии. Однако, на практике таких обороняющихся сторон, естественно, никак не может быть больше половины от тех, что участвуют в войнах. По логике, другая половина участников любых войн является агрессорами (а нередко ими являются в разной степени и обе воюющие друг с другом стороны).
Однако почему-то чуть ли не все государственные режимы всего мира (и уж во всяком случае все диктаторские режимы, подобные нынешнему российскому) в так называемое "военное время" гонят своих подданных на войну, принципиально не спрашивая их согласия на это. То есть, этим подданным как бы говорят: идите, мол, и стреляйте в тех, на кого мы -- чиновники и генералы -- вам покажем; а то, что это, как минимум, в половине случаев непременно окажется не только убийством, но ещё и агрессией, -- не вашего, мол, ума дело... У вас, мол, -- "почётная обязанность" и "священный долг"... (В скобках можно заметить, что требование чиновниками этого, якобы задолженного, "священного долга", по сути, абсолютно ничем не отличается в лучшую сторону от такой, например, "предъявы" какого-нибудь уголовника-рэкетира какому-нибудь предпринимателю: "Ты мне должен штуку баксов, бл...!" Разница -- лишь в том, что рэкетиры обычно хотя бы не заставляют людей становиться убийцами и стрелять в мирных жителей...)
Кстати, за немедленную отмену воинской повинности -- судя по множеству разнообразных опросов -- выступает примерно от 70 до 90 процентов россиян. В этих цифрах я убедился лично, т.к. прошлой осенью на одном довольно популярном и даже вовсе не оппозиционном российском сайте (прилагаю соответствующую ссылку: http://otvet.mail.ru/question/64484696/ ) воспользовался существующей там возможностью организовывать опросы и задал публике в связи с началом очередного армейского призыва следующий вопрос: "Велика ли разница между захватом террористами заложников, работорговлей и принудительным призывом в армию?". Наибольшее количество сторонников получил следующий вариант ответа: "Принудительная армейская служба хуже рабства (т.к. рабов заставляют лишь работать, а солдат -- ещё и убивать кого-то)"...
В завершение прилагаю совсем короткий -- всего в один абзац -- "Манифест против воинской повинности", написанный и обнародованный ещё в 1925 году (ссылка на одну из публикаций, где приведён этот текст, а также ряд других, близких к нему по смыслу: http://antimilitary.narod.ru/antology/manifest.htm ).
"Мы считаем, что созданные на основе воинской повинности армии, располагающие массой кадровых офицеров, представляют серьёзную угрозу миру. Воинская повинность ведет к деградации человеческой личности, к ликвидации свободы. Жизнь в казармах, военная муштра, слепое подчинение несправедливым и необоснованным приказам, обучение людей убивать себе подобных подрывает уважение к личности, демократии и человеческой жизни. Заставлять людей против воли и их убеждений идти на смерть или убивать других -- это унижение человеческого достоинства. Государство, которое считает себя вправе заставлять своих граждан быть военнообязанными, даже в мирное время пренебрегает основными правами человека. Более того, обязательная воинская повинность прививает всей мужской части населения дух агрессивного милитаризма и как раз на том этапе жизни, когда человек более всего подвержен влиянию со стороны. В результате насаждения милитаризма война начинает восприниматься как неизбежное и даже желанное явление."
На мой взгляд, очевидно, что если бы этот Манифест был бы должным образом воспринят человечеством в те далёкие двадцатые (или хотя бы в тридцатые) годы, то не было бы бесчисленных кровавейших трагедий, включая гибель многих десятков миллионов человек в ходе 2-ой мировой войны... Кстати, среди авторов, подписавших в 1925 году этот Манифест, -- Альберт Эйнштейн, Махатма Ганди, Герберт Уэллс, Бертран Рассел, Ромен Роллан... Могу добавить, что лет за 20 до этого ещё более радикально против воинской повинности многократно выступал Лев Толстой. Он, в частности, писал следующее: "...Постыдно положение блудницы, которая всегда готова отдать своё тело на осквернение тому, на кого укажет хозяин, но ещё постыдней положение солдата, всегда готового на величайшее преступление -- на убийство человека, всякого человека, на которого только укажет начальник".
Мне остаётся лишь выразить своё полное согласие с приведёнными цитатами.
Слушайте
ОСТРЫЙ УГОЛ
Американской и европейской бронетехнике отводили решающую роль в украино-российской войне. Но всё пошло не по плану…
апрель 2024
ИСТОРИЯ
Кто осмелился поднять руку на "пролетарского вождя" и что с ним случилось потом?
апрель 2024
НОВЫЕ КНИГИ
Светлейший князь Потёмкин «На месте ли монумент императору Петру Великому?»
Ф. И. Тютчев: «Я не без грусти расстался с этим гнилым Западом…»
Баснописец Крылов. «Вы, Иван Андреич, вымойтесь, да причешитесь и никто вас не узнает!»
апрель 2024
МИР ЖИВОТНЫХ
УРОКИ ВРЕМЕНИ
Высокопрофессиональные палачи встречались сравнительно редко и ценились буквально на вес золота. Хотя они быстро становились очень богатыми людьми (плата за эту «работу плюс чаевые, ничего незаконного), но освоение такого высокого «искусства пытки и умерщвления» оказалось очень трудным делом. В этом «искусстве» настоящих высот достигали немногие. Отдельные квалифицированные палачи получали и международную известность.
апрель 2024